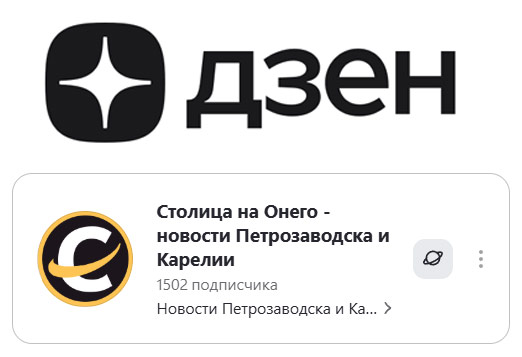В нынешнем году объемы лесозаготовок в Карелии сократились на 4 процента, а более половины местных леспромхозов вместо прибыли получили убытки. Неожиданный для республиканских властей спад производства вызвал тревогу чиновников за обеспечение сырьем целлюлозно-бумажных комбинатов, на долю которых приходится две трети налоговых поступлений от деятельности карельского лесопромышленного комплекса. По образному выражению министра госсобственности и природных ресурсов республики Сергея Денисова, чих лесозаготовителей чреват кашлем бумажников.

Едва ли не главной причиной неэффективной работы леспромхозов министр назвал непомерные платежи за лес. Наш корреспондент предложил прокомментировать ситуацию в отрасли директора Карельского НИИ лесопромышленного комплекса, члена комитета по экономической политике и налогам республиканского парламента Илью Шегельмана

— Илья Романович, разделяете ли Вы точку зрения министра о непосильной финансовой нагрузке, которую несут карельские лесозаготовительные предприятия
— В Карелии, действительно, установлена самая высокая плата за лес на корню в Северо-западном федеральном округе. Причем, цены выросли после того, как в республике были заключены договора аренды на долгосрочное лесопользование, и это стало ощутимой нагрузкой для леспромхозов, которые и так обременены дополнительными условиями аренды: лесозаготовители должны обеспечивать население дешевыми дровами и оказывать помощь местному самоуправлению.
Однако проблема заключается в том, что сегодня никто по-настоящему не знает, какой должна быть плата за лес на корню. Стоимость леса не может быть везде одинаковой. Ее необходимо дифференцировать в зависимости от разных условий, а такой серьезной дифференциации в республике нет. Мы неоднократно обращались и в правительство, и в Союз лесопромышленников Карелии с предложением разработать научно обоснованные ставки лесных податей, но до сих пор ничего предпринято не было. Наш институт занимался подобной работой в 1995-96 гг., однако за это время ситуация в отрасли совершенно изменилась. Все предприятия находятся в условиях достаточно жесткой конкуренции.
Разработка дифференцированных ставок в стране ведется, и завтра-послезавтра такие ставки появятся. Вот тогда нам придется доказывать, что наши ставки или выше или ниже, а мы к этому не готовы. Это серьезная и дорогостоящая работа, но ее необходимо начинать.
С другой стороны, предприятия знали, что выбирали. Когда они получали лес в аренду, у них вопросов не возникало. Все реально представляли, что за лес придется больше платить. Более того, придется взять на себя и те функции, которые раньше выполняли лесхозы. Все предприятия готовили бизнес-планы. Мне тяжело судить, какого уровня были эти бизнес-планы. Но видимо, часть из них была заведомо необоснованна, ведь неслучайно уже началось расторжение арендных договоров.
Кто-то из лесопользователей разрабатывал бизнес-план под больший объем заготовки древесины, чем тот, на который он может рассчитывать с выделенным лесфондом. В сложившейся ситуации министерству госсобственности и природных ресурсов необходимо потребовать от арендаторов корректировки бизнес-планов с тем, чтобы эти документы были более обоснованными. Но самое главное - любой бизнес-план должен не только оценивать риски, но и показывать бюджетную составляющую – что получит бюджет в результате работы лесопользователя. Если бюджет ничего не получит, какой смысл передавать лес неэффективному пользователю?
— Необходимость повысить эффективность лесопромышленного комплекса как базовой отрасли местной экономики, в общем-то, и заставила республиканское правительство взять курс на развитие глубокой переработки древесины на территории региона. Однако, выдвигая в качестве одного из главных условий передачи леса в долгосрочную аренду наличие перерабатывающих мощностей, карельские власти загнали многих традиционных лесопользователей в тупик. Даже министр госсобственности и природных ресурсов Сергей Денисов признал, что республике не нужны десятки мелких лесопилок. Что же теперь делать леспромхозам?
— За последние годы рыночная ситуация сильно изменилась. Сейчас, к примеру, идет речь о восстановлении Соломенского лесозавода. В Петрозаводске появится мощное деревообрабатывающее предприятие. В такой ситуации местным лесопользователям нет смысла развивать у себя лесопиление, они должны превратиться в поставщиков Соломенского лесозавода. Но это должно быть выгодно всем сторонам.
В республике, действительно, есть районы, где больше 10 мелких лесопильных предприятий, и я не могу дать рекомендации, как можно было бы изменить эту ситуацию. Если бы у нас был прозрачный бизнес, собственники этих предприятий сели бы за стол переговоров и вместе подумали об объединении. Весь мир идет по пути интеграции, но когда бизнес закрыт, показать эффективность этого пути очень сложно.
— Многие лесопромышленные предприятия Карелии уже испытывают дефицит сырья. Неслучайно Сегежский ЦБК выступил с инициативой создания целевого хозяйства, где действовали бы особые правила рубки, а древесину можно было бы выращивать как на плантации. Это единственный путь выхода из сырьевого кризиса?
— Целевые хозяйства – это лишь один из путей решения проблемы. Федеральная служба лесного хозяйства относится к сегежской инициативе как к пилотному проекту. Там еще очень много вопросов, связанных с ценообразованием, с заготовкой леса, с уточнением технологии и выбором машин. Но в любом случае нам нужно двигаться в этом направлении.
Если мы возьмем две страны – Финляндию и Швецию, то увидим, что они вместе заготавливают 130 миллионов кубометров леса в год, а Россия – 160 миллионов. Объемы вполне сопоставимые. А почему это происходит? Потому что правила рубок, по которым работают наши лесозаготовители, давно устарели. Мы давно об этом говорим, но до сих пор не можем найти компромисс между лесопользователями, лесохозяйственниками и органами государственной власти. Хотя на последнем совещании в Петрозаводске заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства признал, что существующие правила рубок отстали от жизни. Нам пришлось доказывать это более 10 лет.
Когда в стране появятся новые правила, мы сможем не только эффективно заготавливать лес, но и его восстанавливать. Новые правила рубок не должны быть революционными, их главными критериями должны стать экономическая эффективность и экологическая безопасность.
Однако решить сырьевую проблему можно и за счет освоения тех лесов, которые в настоящее время экономически недоступны. Из-за отсутствия лесовозных дорог в России не осваивается более двух третей расчетной лесосеки. В Вологодской области дороги стали строить за счет бюджета. Но в этом случае лес, передаваемый в аренду, станет дороже.
Беседовал Валерий Поташов