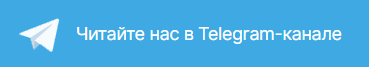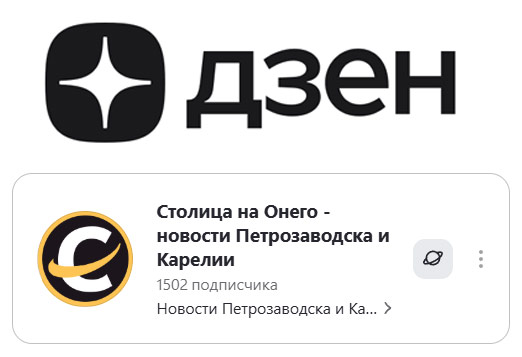Есть меры поддержки. Есть средства поддержки. А вот с собственно предпринимательством обнаруживаются проблемы.
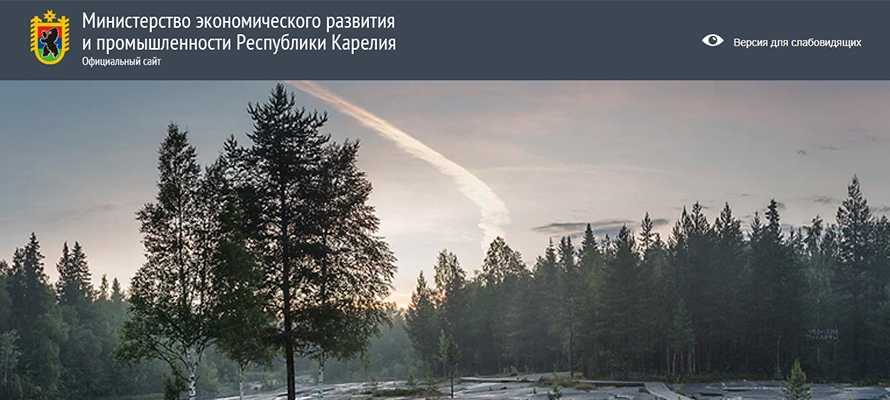 фото: economy.karelia.ru
фото: economy.karelia.ru
Последние пару лет не проходит недели, чтобы на глаза не попалось информационное сообщение, повествующее о том, что сотрудники республиканского министерства экономического развития и промышленности представили сведения о мерах государственной поддержки предпринимательства в Карелии. Порой кажется, что суммарная аудитория тех, кто узнал об этих мерах, уже многократно превышает население региона, включая младенцев и стариков. Все меры поддержки перечислены на министерском сайте, портале Корпорации развития Карелии и около пяти Интернет-ресурсах, посвящённых инвестиционному потенциалу и развитию малого и среднего бизнеса в регионе.
Тем не менее, каждую неделю сотрудники министерства принимают участие в конференциях, круглых столах и семинарах, колесят по районам, проводя встречи с предпринимателями и рассказывая о том, каким широким спектром мер поддержки им всем можно воспользоваться. На указанное направление деятельности выделяются некогда казавшиеся заоблачными суммы. Если не ошибаюсь, только на текущий год и только за счёт средств федерального бюджета планируемый объём поддержки карельского предпринимательства должен превысить 400 миллионов рублей.
Есть меры поддержки. Есть средства поддержки. А вот с собственно предпринимательством обнаруживаются проблемы. Если быть более точным, то проблемы носят институциональный характер. И если ещё точнее, то стоит признать, что проблемы с развитием предпринимательства в Карелии – не только и не столько в распределении миллионов рублей на поддержку бизнесов, проблемы – в неразвитости институтов, в игнорировании властями институционального направления государственной инвестиционной политики.

Совсем недавно об общих для большинства российских регионов – Карелия, конечно, здесь не исключение – институциональных проблемах очень точно выразился Андрей Мовчан, руководитель программы "Экономическая политика" Московского центра Карнеги.
Свои размышления он начал с наблюдения о том, что часть предпринимателей, инвестирующих в регионы России, уверены: это – именно то место, где они хотят быть. Конкуренция ниже, правил меньше, возможностей больше. Другие (и их на самом деле больше), наоборот, убеждены, что в российских регионах им некомфортно – риски высокие, предсказуемости нет, правил нет. Можно было бы просто предложить этим двум группам не спорить – каждому своё. Но только из-за отсутствия дискуссии институциональные проблемы сами по себе не разрешатся.
Действительно, во всём, что не касается приобретения месторождений полезных ископаемых, конкуренция в России на порядок ниже, чем в развитых странах, от предпринимательства в самых разных областях (особенно высокотехнологичных) до соперничества за высокую должность.
В то время как в развитом мире и в бизнесе, и в государственном секторе безработица среди менеджеров и профессионалов очень чувствительна, в России кардинально не хватает всех – от прорабов на стройке до директоров компаний.
Конечно, в России и риски существенно выше, чем в Европе и Америке. И это касается не только рисков индивидуальных (риск быть убитым в России в 2,5 раза выше, чем в США, и в 10 раз выше, чем в Европе; риски ограбления, попадания в серьёзное ДТП, неполучения или получения неэффективной медицинской помощи также существенно выше, чем в развитых странах), но и тех, что связаны с бизнесом. Надо только правильно понимать слово "риски": величина их определяется не серьёзностью предсказуемых последствий, а собственно возможностью последствия предсказать.

И здесь самыми верными индикаторами являются справедливое/несправедливое судопроизводство и исполнение/неисполнение судебных решений. Сегодня именно они признаются наиболее проблемными правовыми практиками. Всё чаще как в юридическом сообществе, так и в более широкой аудитории звучат голоса о том, что судебная система (в части гражданского и арбитражного судопроизводства) работает вхолостую, поскольку отсутствуют действенные механизмы реализации судебных решений. Предпринимателей и компании, обратившихся с иском и прошедших через все судебные процедуры, в конечном итоге интересует реальное восстановление нарушенного права, а не само судебное решение в их пользу. Принудительным же исполнением решений занимается Федеральная служба судебных приставов, поэтому неудивительно, что основная критика направлена в адрес данного ведомства. Однако в большинстве случаев подобная критика носит поверхностный характер, не идёт дальше аргументов о плохих кадрах или коррупции, не затрагивает системные предпосылки низкой эффективности исполнения решений по тем или иным категориям дел.
К сожалению, в России нет основанного на праве алгоритма, позволяющего избежать риски потери денег, бизнеса и даже свободы. Нет механизма эффективной защиты от клиента, который не оплачивает счёт, особенно если этот клиент крупный, связан с властью или просто выходец из силовиков. Нет возможности сохранить бизнес, если предприниматель – конкурент государственного игрока или даже частной компании, в которой есть интерес местного или регионального чиновника; не гарантирована свобода, если кто-то (из личной неприязни или чтобы разрушить бизнес) решит "купить" уголовное дело. Тот факт, что многие бизнесы работают, конкурируя с государственными, многие клиенты платят и далеко не все "враги" проплачивают уголовное преследование своих недругов, не отменяет высокого уровня таких рисков – случаи всем известны.
Риски этим не ограничиваются. Необязательность исполнения законов в бизнесе естественно превращается в необходимость их неисполнения: будешь законопослушным – проиграешь более гибким конкурентам.
Правительственные чиновники постоянно удивляются, когда кто-то из карельских предпринимателей, первоначально претендовавших на использование мер государственной поддержки, но узнавших, что надо отказаться от работы "в чёрную", полностью дезавуирует свой интерес к подобным субсидиям. Казалось бы, разве не лучше перейти к честной бухгалтерской и налоговой отчётности? Вот только "белая работа" оказывается дороже. Такой предприниматель тут же проиграет в цене конкурентам и скорее всего разорится. Оценивать обоснованность данных заявлений довольно сложно, но механизм перехода бизнеса в "серую", в "чёрную" и даже в криминальную сферу именно такой. Если кто-то может не платить налог, другие тоже не будут, иначе проиграют. Если кто-то даст взятку за подряд, все должны будут делать это – или не получат подрядов.

Конечно, своя специфика есть у разных отраслей. Например, в региональном турбизнесе "серые" схемы оплаты за аренду гостевых домов, питание и сопутствующие услуги поддерживаются самими клиентами. Их абсолютно не волнует то, что предприниматель, решая заняться таким бизнесом, автоматически берёт на себя риск определённого нарушения закона.
Естественно, нет смысла преувеличивать и чрезмерно обобщать, но от этого на самом деле дистанция до истины не сократится. За небольшим количеством отраслей (в основном интеллектоёмких и не связанных с использованием нефинансовых активов) бизнесы в российских регионах заражены, а где-то и поражены такого рода деформированной конкуренцией и вытекающими из неё рисками. Так что, прежде чем пытаться распределить многомиллионные государственные субсидии на поддержку и развитие предпринимательских проектов, стоит на институциональном уровне выявить обстоятельства их функционирования и попытаться сперва "поправить" там.