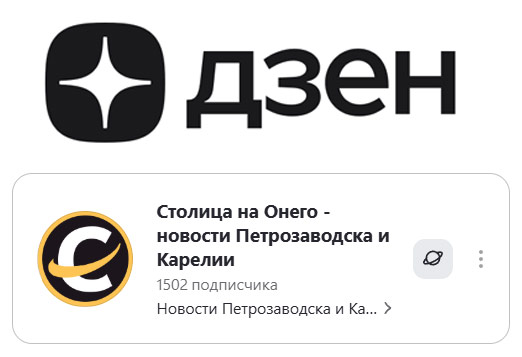Дмитрий Новиков – о своем дебютном романе "Голомяное пламя", сериале "Игра престолов" и северных бесах.
В библиотеке на Древлянке на днях состоялась встреча с писателем Дмитрием Новиковым, который благодаря своему первому роману "Голомяное пламя" (до этого Новикова знали как автора рассказов) в 2017 году финалистом "Русского Букера" и получил грант на перевод книги на английский язык.
Пообщаться с современным русским прозаиком, который родился и живет в Петрозаводске, пришли десятки читателей, преимущественно, женщины – сотрудникам библиотеки даже пришлось принести дополнительные стулья.
К слову, взять в библиотеке книгу Новикова, не так-то просто: придется записаться в очередь, потому что желающих почитать очень много.

"У нас культурный город, а Древлянка – интеллигентный район, ведь после того, как была опубликована новость о вхождении Дмитрия Новикова в список финалистов "Русского Букера", все его книги у нас в библиотеке были выданы на руки. То небольшое количество, которое вы на одной полочке сейчас видите, это то, что нам удалось собрать по библиотекам города", - объяснила присутствовавшим сотрудница учреждения.
То, что Новикова действительно читают, знают и любят, было видно и во время его общения с читателями. Некоторые из них даже цитировали наиболее полюбившиеся куски из его произведений, проводили аналогии со своей жизнью или книгами других авторов. Но сугубо литературным этот разговор вряд ли можно назвать, а уж скучным – тем более нельзя. Практически обо всем Дмитрий Новиков пытался говорить с юмором. Даже когда его спросили о том, возможно ли возрождение нашего края.
Мы записали самые увлекательные, на наш взгляд, рассуждения писателя.
"До 40 лет вел разнузданный образ жизни"
- Я родился в Петрозаводске, жил в Петрозаводске и уже дожил до 51 года. Мне одна знакомая сказала, что если до 50-ти дожил, то уже ничего не страшно. Так что я местный, коренной, северянин – с гордостью об этом говорю.

Есть такой популярный сериал "Игра престолов". Буквально вчера я начал его смотреть, и что меня в нем подкупило, что там очень важна тема Севера. Так же важен, я думаю, Север и для нас. К сожалению, наши столичные друзья, партнеры, это не до конца понимают. Они варятся внутри своего большого, богатого мегаполиса, и в литературе то же самое. Они зачастую считают, что интересны только проблемы, которые существуют в большом городе. И очень трудно бывает их убедить в том, что то, как живем мы – порой выживаем, порой боремся, но не сдаемся, терпим – и вообще все то, что составляет основу русского северного характера, это тоже интересно и об этом нужно писать и читать.
Тесть мой, бывший директор машиностроительного техникума, очень умный товарищ, меня научил. Говорит, выступаешь когда в Москве, в столицах, всегда начинай с вопроса: а вы когда-нибудь видали живого карела? Сразу, говорит, к тебе появится интерес, потому что не всегда знают, кто это такие.
Карельской крови у меня четвертинка. Бабушка моя чистокровная карелка была из Пряжи, и все детство я, можно сказать, провел на карельской природе. Меня отвозили в деревню, там я общался, лазал по речкам, по лесам, по всем нашим природным чудесным местам. Как-то неожиданно во мне это всколыхнулось и снова стало важным для меня, когда мне исполнилось 40 лет. А до 40 лет я вел немножко, скажем так, разнузданный образ жизни: очень любил путешествовать, объехал много стран, для меня было важно посмотреть мир. В Америке я несколько раз был – причем не как турист, а как человек, который приезжает и ездит автостопом; в Европе, в Африке… Даже в Южной Корее пожил три месяца.
В своих путешествиях я искал что-то важное для себя. Я человек чувствительный; в психологии есть такое определение "пограничное состояние" – вот я человек пограничных состояний. А для писателя, я считаю, очень важна острота восприятия, и я ее в себе воспитывал. Во всех местах я искал такое важное, чтобы душа затрепетала; некоторые называют это "местом силы", хотя я не люблю эту дешевую мистику… И внезапно в 40 лет я почувствовал, что далеко ездить не нужно, все есть у нас в Карелии, на Севере, на Белом море, в этих местах, которые замечательной природой обладают. Замечательной не только тем, что она порой сказочно красива, но и тем, что опасность какую-то ощущаешь; и темные, и светлые силы в ней присутствуют, и богатая история, которую, к сожалению, многие из нас забыли.
"В современных условиях приходится хитрить"

- Я специально пошел на провокацию и дал роману название "Голомяное пламя". В чем-то я проиграл, конечно, потому что столичные критики сразу причислили меня к разряду почвенников, писателей-деревенщиков. Им так легче: раз старое, незнакомое слово – значит, деревенщик. Я им отвечаю, что если уж так, то не деревенщик, а маринист, потому что книжка про море.
"Голомя" – это красивое поморское слово, северное, означает открытую воду, открытое пространство, море, озеро. А "голомяное пламя" – тут я, конечно, немного обманул наших заумных критиков – это радуга в море, которую я несколько раз видел; чудесное явление. И я их убедил, что такое определение существовало у поморов. Но вам признаюсь, что сам его придумал. В современных сложных условиях порой приходится хитрить, пускаться на разные ухищрения…

Практически невозможно, чтобы провинциальный писатель напечатался в Москве и вышел на какую-то премию. У каждой премии, у каждого издательства существует своя маленькая толпа – самых умных, самых чудесных, которые дружат друг с другом, и никто лишний им особо не нужен. Но кто-то приезжает с севера, привозит им соленую рыбу, клюкву, и они потихоньку начинают думать, что этот человек тоже неплохой писатель… Это я секретами мастерства делюсь.
"Рассказчиком быть прекрасно, но за это не дают премий"
- Заниматься литературой я начал в 2000 году – уже 17 лет, получается. Немножко есть имя, известность, книжек уже – множко. Но сил молодых, того задора, с которым брался, нет – такое чувство, что по колено в землю врос, как в русских сказках. Тяжело, конечно, дался мне этот роман…

Тяжело было еще из-за того, что до этого писал короткие тексты. Рассказы действительно получались, мне до сих пор самому нравятся, старшие товарищи их высоко оценили. Но есть у некоторых людей физиологическая зависимость: они не могут писать длинные тексты. Поэтому и Чехов роман свой не написал, хотя мечтал, и Довлатов Сергей не написал роман. Бунин Иван Алексеевич, Казаков Юрий… Они все мечтали написать роман, потому что рассказчик – это одно, а романист – совсем другое. Но у них не получилось. Я взял на себя эту тяжесть, смелость, наглость – и семь лет назад сел писать роман, хотя у меня до этого тоже не получалось.
Семь лет я не знал, получается или нет. Потому что не было никакого опыта. Были, конечно, советы старших товарищей. Андрей Георгиевич Битов мне хорошую фразу сказал, когда я спросил, как он перешел от рассказов к романам. Я, говорит, никак не перешел, просто стал длиннее писать.
А знаменитый Андрей Волос, у которого я выяснял, нужно ли для романов составлять схему, график, черточки, сказал, что как только схему начинаешь составлять – значит, роман не получился.
Рассказчиком быть прекрасно, это почти как быть поэтом. Но за это не дают премий. Премия – это, конечно, не только денежное выражение, это признание коллег по цеху и более легкое распространение книги среди читателей. Когда премия, то все начинают говорить, друг другу пересказывать; если книга понравилась, то ее начинают покупать – то есть она пошла в народ. Добиться этого, а я разговаривал с издателями, очень сложно. Ни реклама, ни какие-то там продвижения в нашей стране не действуют. По-прежнему, говорят они, действует сарафанное радио.

Книжка, видимо, действительно получилась. Я получаю очень много писем, что для меня необычно. Раньше, когда были рассказы, девушки на улицах подходили знакомиться. А теперь пишут письма. Девушки в годах пишут. Из разных стран мира. Книжка пошла и в Америке, и в Германии – везде наши русскоязычные люди начинают скучать по Родине, ностальгировать, плакать и писать мне письма. Пишут, что про Карелию слышали, но не знали, что тут такая история, природа…
"Чтобы написать эту книгу, тысячу километров прошел"
- Когда писал, ставил перед собой задачу – во всех книгах, но в этой особенно важно – не соврать. Я не читаю современных авторов, мне не нравится, потому что современная русская литература немножко превратилась в развлекательность, сдала свои позиции. Меня пытаются развлечь, и мне становится скучно. А правду жизни очень редко удается добыть.
Могу честно сказать, хвастаясь даже, что в этой книге нет ни слова лжи. Все, что здесь писал, я проверял – в разговорах с людьми, копался в архивах, многие вещи сам прошел-пропутешествовал. Чтобы написать эту книгу, тысячу километров точно прошел. И на байдарке, и по Белому морю, и по лесам тамошним; усталость благородная накопилась. Я, как говорится, отвечаю за слова в этой книге.
Единственное, меня поймали геологи. Я считал, что ни одной ошибки в книге нет, но геологи сказали, что одна ошибка есть. Мол, ты пишешь, что минерал мусковит – это спутник слюды на севере, на Белом море, а мусковит – это и есть сама слюда.

Почему современные авторы пытаются развлечь? Так легче писать, не берешь на себя ответственность. А когда стараешься и сам понять важные вещи, и написать о них, то это долго, мучительно… Я несколько эпизодов в этой книге никак не мог написать, несколько лет просто набирался смелости. Но я знал, что должен написать так, чтобы меня потом никто не мог обвинить в неправде. Где-то это, конечно, художественная литература, вымысел. Но есть такое понятие, сейчас, к сожалению, забытое: "художественная правда".
"Первая переводчица уже отказалась"
- Сложно ли будет перевести книгу на английский? Лексика тяжелая, я согласен, детали тяжелые. Как бывший переводчик я это понимаю. Особенно переводчиков пугает, когда на старорусском написано, хотя я их успокаиваю, что есть те же тексты на современном русском языке. Я специально брал самые старые, чтобы русскому читателю посложнее было, потому что, как мой папа говорит: чем тяжелее топор – тем короче топорище; чем тяжелее – тем лучше. Для англоязычных читателей пусть полегче они сделают.
Есть словарь Дурова, ссылки я все дам; обороты сам помогу перевести. Не помогу я – у нас в университете прекрасные специалисты. Все это страшно только на первый взгляд, хотя первая переводчица уже отказалась, испугалась…
Сам факт перевода карельской книжки на английский, мне кажется, примечательный. Я все усилия приложу, чтобы она вышла. Мне самому это интересно, я английский язык люблю, сам немножко двуязычный товарищ. Сейчас карельский пытаюсь освоить, так что в деревне и трехъязычным бываешь…
"Стал в церковь ходить чаще"
- Как я пережил написание романа? Всю правду сказать нельзя, очень тяжело. Я думал, что самое тяжелое – это написать роман. Но меня никто не предупредил, что когда книга написана и уже сказали, что она получилась, ты должен напрячься, потому что в этот момент бесы и приходят к тебе. На тебя накидываются все воспоминания, которые в книге описывал, и это настолько начинает мучить, или, по-молодежному, "плющить", что психологически оказываешься в сложной ситуации. Лично мне это очень сложно было пережить без церкви. Я стал в церковь ходить чаще, выучил молитвы… Думаю, я своей книгой, северных бесов немножко обидел.

"Хотелось бы написать о 1990-х"
- Насчет следующей книги, предвосхищая вопросы ваши… Пока сил у меня нет, я не готов. Но потихоньку, потихоньку начинаю думать об этом. Мне хотелось бы, знаете, написать о чем? Мне хотелось бы написать о 1990-х годах – о тех сложных, печальных, ужасных, которые мы все проклинаем, которые порой ненавидим.
На 1990-е у нашего поколения пришлась юность. Нам было по 20 лет. Я вернулся со службы. Первая любовь, а потом вторая. Первая семья, а потом вторая. Фотографии смотришь и плачешь порой, как мы с детишками маленькими в лесу костры жжем, все счастливые и веселые, все улыбаемся. Несмотря на то, что 1990-е годы, и на костре жарили не сосиски, а какую-нибудь колбасу печеночную. И мне хочется передать это ощущение, что даже в самые тяжелые годы все равно нужно жить, надеяться и радоваться жизни. Потому что тема опасная: начнешь про 1990-е – скажут: а, это вы там колбасу жарили, а нам вообще жрать нечего было. А москвичи скажут: а у нас вообще один сорт колбасы был и один сорт сыра.
Помню, как мы с первой женой поехали в Петербург за сыром и за колбасой, по удаче. Купили мы этот большой круг сыра в магазине. И потом я пошел ее провожать, она в санаторий в Псков поехала по путевке. Пришли мы на автовокзал, и она выронила этот сыр, и он поскакал, покатился. И помню, как все люди, петербуржцы, сидели и с презрением смотрели на нас, как мы ловим этот сыр. Вот это тоже хочется передать. И как этот сыр убегал от нас, как Колобок.
Но очень боюсь. Пока только начал фотографии рассматривать. Это значит, что-то там рождаться начало.
Я читаю все, что относится к классике, в том числе и карельскую классику. Сейчас, особенно в свете того, что я собираюсь писать о 1990-х, то неожиданно я думаю о "Калевале": как бы совместить 1990-е годы и эпос наш великий. Потому что много пересечений. Когда видишь картинку, как Ильмаринен несет доски в охапке, думаешь: на что-то похоже…
"Продавать кирпичи и сажать деревья"
- Возможно ли возрождение северного края? Пару десятилетий у нас бытовало уныние: ничего невозможно, всё пропало, все пропали. Я такой человек – так получилось – испытаний много всяких было, но никогда, ни в какой ситуации я не говорил, что все пропало, я всегда думаю, что будет продолжение. Пока жив человек – продолжение будет. Вы говорите о возрождении – это все в наших руках.
Вы прекрасно помните финансовый кризис 1998 года. У меня были кое-какие накопления – я старался сделать накопления, чтобы можно было спокойно писать и не думать. А после кризиса у меня осталось денег, чтобы купить 3 тысячи кирпичей. Каждый думал, во что вложиться, я решил вложиться в кирпичи: думал, построю какой-нибудь гаражик, чтобы хоть что-то осталось. Но в итоге потом пришлось и кирпичи продать.
Я живу на Древлянке, около школы, и двор у нас тогда пустой был: новые дома же построены, деревьев вообще нет. И в момент, когда кирпичей не осталось, я подумал: почему бы не засадить двор деревьями.

Буквально за неделю, это не сложно, привез из леса рябин, шиповника где-то накопал… И была еще смешная история… Я все думал, где ж кленов взять? Смотрю, в районе Урицкого, где женская больница: скверик, кленов много, и ростков тоже. Ну, думаю: вреда не будет, выкопаем небольшие, посадим. Приехали с приятелем выкапывать – я вообще не очень законопослушный товарищ, но писатель должен быть свободным – выкапываем, бежит тетенька в белом халате, кричит: вы что тут сажаете? Я говорю: мы не сажаем, мы выкапываем. Ну тогда ладно, говорит... Выкопали клены, посадили – теперь у нас во дворе очень красиво, школьники там ходят, гербарий собирают…
Так что, мне кажется, отчаиваться не нужно. Продавать кирпичи, сажать деревья – и всё чудесно будет!

Записала Лида Панасюк